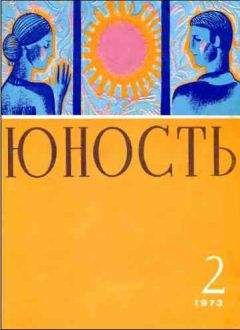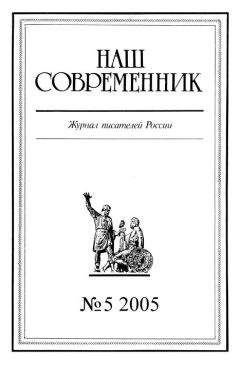Журнал Юность - Журнал `Юность`, 1974-7
— Ничего, бывал уже там
— Выход на связь в семь ноль-ноль, — внятно выговаривал Бабкин, — шифр ноль-пять, Приступить к выполнению задания!
Разошлись порасчетно, заговорили, поспешно обсуждая, как лучше идти в назначенные пункты. Кое-кто заспорил. Штабная группа принялась ставить палатку, разбирать такелаж радиостанции, устанавливать дюралевую антенну — значит, здесь будет штаб роты. Зыбин-Серый молча и вроде сердито зашагал вверх по течению реки. Я тронулся за ним, думая, что очень удачно выбрал направление мой командир, хоть и впервые идет на Безымянную: в нем развита крестьянская смекалка и бережливость к себе — лишнего шага зря не сделает. Нутром угадывает выгоду.
Всходим на первый холм, я оглядываюсь назад. На сером пятне гальки четко обозначалась палатка, поднялась на оттяжках мачта, и уже курится дымок костерка. Младший лейтенант Голосков, сунув руки в карманы галифе, мешковато понурив плечи, бродит возле воды, пинает камни: ему, наверное, скучно, не с кем порассуждать, — все другие заняты штабной суетой. Добрый человек Голосков, но служака — никакой. Его не любит полковое начальство. У него много выговоров, и, если бы не майор Сидоров, который почему-то терпит, даже бережет «младшего», уволили бы давно в запас Голоскова. К тому же он давно просит об этом, пишет докладные.
— Ты чего скис? — Серый, обернувшись, ждал, оглядывал меня, сповно сожалея, что я еще могу идти.
— Задумался.
— А ты поменьше. — Он показал вверх, на вершины лиственниц. — Вон там думать будешь.
Голос у него позванивал, был почти начальственный. Я не обиделся. Серый слегка презирает меня за то, что я хорошей жизни не видел.
Идем час, другой. Тропа делается круче, пересекает осыпи; скользко на мокрой щебенке, тянет, режет плечи упаковка, карабин, трет шею скатка. От росы, льющейся с кустов, мы вымокли так, будто искупались с полной боевой выкладкой, и теперь молчим — только идем. И выбираем тропу, чтобы не попасть на гибельную осыпь. Серый слушается меня, если я подсказываю, и даже жалуется, что у него упаковка тяжелее, а ему вовсе не больше надо от службы, хоть он и командир расчета. И сила ему еще пригодится на гражданке, в той настоящей, очень толковой жизни. Я поддакиваю ему, но о себе не говорю: нечем похвастать — ни прошлым, ни будущим. Позади — почти ничего, впереди — густой туман. Девушку — и ту придумал, в Армавире живет.
Начались сплошные осыпи. Ни кустика, ни крупного камня. Тропа то виднеется тоненькой жилкой, то исчезает, съеденная щебенкой. Ползем на четвереньках, как вьючные, цепляясь всеми четырьмя конечностями за зыбкую землю, готовые в любое мгновение, если зашипит и покатится вниз дресва и щебенка, лечь на живот, распластаться пошире и удержаться в какой-нибудь впадине.
Взбираемся на вершину-голец. Она вся завалена большими и малыми камнями и не такая гладкая, какой кажется снизу, сияя в солнечные дни четким конусом. Находим маленький неглубокий окопчик (я его помню по прошлому году), спрыгиваем в него, снимаем с себя карабины, упаковки, скатки. Садимся на бруствер покурить — в запасе у нас наверняка есть несколько минут: шли-то без передышки, штурмом, как на войне, одолели высоту.
Уже светло, туман растекся по распадкам, таежным дебрям. И видно далеко, хоть и смутно: разогретая за лето земля парила, остывая, и терялась в безбрежности влажных сумерек. Но если вглядеться, можно уловить, вернее, почувствовать сгустки домов, слабые штришки труб, еле приметные огоньки Хабаровска. А за ним — широкую серую полосу Амура. И больше ничего: мгла, бесконечность.
— Действуй, — сказал Зыбин-Серый, сплевывая на искуренную папиросу.
Хочется еще посидеть, остыть на ветерке, однако я встаю, начинаю «действовать»: открываю упаковки, присоединяю к рации питание, выдвигаю штыревую антенну, другую, кабельную, забрасываю повыше на камень (если штыревой будет мало), устраиваю приемопередатчик так, чтобы удобно было дежурить у него: сесть, привалиться к камню, вытянуть ноги. И думаю о Зыбине — как удачно прозвали его Серый. Он и в самом деле весь какой-то серый: глаза, тугое лицо с большим носом — все тускловатого серого цвета, словно раз и навсегда припорошенное мягким печным пеплом. И даже голос у него какого-то среднего, ровного, серого оттенка. Говорят, свое прозвище он привез из деревни. Сказал кому-то поначалу, что его дома дразнили «Серый» — и все, как ярлык себе прилепил.
Включаю приемник, настраиваю. Точно нащупываю свою волну, кладу наушники на рацию: услышу и так позывные, если начнется поверка, — наш КП у речки, недалеко, по прямой не более пяти километров будет. А Серый роется в вещевом мешке, достает сухой паек. Выложил на клочок газеты два сухаря, отсыпал из мешочка щепотку соли; подержал в руке, взвешивая, банку тушенки, вернул ее в вещмешок. Вынул луковицу и кусок вяленого мяса — это из собственных запасов.
В наушниках возникают прерывистые всхлипы, толчки, шипение. Слегка подправляю настройку и ловлю четкую морзянку. Трижды повторяется буква «ж», трижды наш позывной, дважды — позывной КП и дается «шрк» — «Как слышите?» Включаюсь, повторяю в обратном порядке позывные, отвечаю: «шса-5» — «Слышу отлично». КП подтверждает мой ответ, приказывает вести наблюдение, постоянно находиться на связи и начинает звать другие радиорасчеты.
Вот и вся работа; кладу наушники на рацию. А наблюдение— дело простое. Увидим какой-нибудь самолет, хоть гражданский кукурузник — сообщим, что в такое-то время в таком-то направлении пролетел самолет такого-то типа. По шифру, конечно, сообщим. Но и это — зашифровать — дело нетрудное. Главное — сиди, мерзни, грусти. В другом месте, в лесу, скажем, можно костерок малюсенький бездымный развести, чаю вскипятить, тушенку разогреть. Здесь — Безымянная голая, из одних камней, которые даже в сухом виде не горят.
Серый ест луковицу, обильно макая в соль. Луковица крепкая, скрипучая, и у него краснеют, слезятся глаза, он отдувается, как после ста граммов; грызет сухарь, запивая водой из баклажки. Мне не предлагает. Вот если я попрошу — отделит частицу луковицы, однако подаст так, что навек должником станешь. И не жадный вроде человек. Когда просят табаку, бумагу для письма или посылочную еду, не отказывает, делится. По-куркулевски, правда; от воспитания особого, что ли? Спокойно взять может тот, кому наплевать на все, съест да еще похохочет в душе над Серым. Я не могу так и потому не прошу, хоть и очень давно не пробовал свежего лука. «Ладно, — думаю, — совесть дороже». К тому же я еще плохо знаю Зыбина — всего второй наш выход. До него моим командиром был старший сержант Бабкин. Теперь его повысили: он остался на сверхсрочную.
— Ну, ты давай, действуй, — говорит вяло Серый, — а я тут прикорну чуток.
Медленно, сонно заворачивается в шинель, втискивается под камень — там суше и тише, ворочаясь, затихает. Но чего-то ему все-таки не хватает, и через минуту тишины слышится его голос:
— Представь, у нас в Колотушках браги наварили, свадьбы играют, еды полно, мясо обязательно. Коммунизм, можно сказать. Представь, моя Лизка что за баба? Маленькая вроде, а обоймешь, ну прямо тыквочка крепенькая… так и расколется вроде… Тебе непонятно. — Серый высовывает серую голову, всматривается в меня, за что-то сердится (уж очень пустой я для него человек, непонятливый). — Ты вот что. Демобилизуешься — приезжай ко мне. Устрою по знакомству. Жить будешь, обещаю. Если ты, конечным делом, не лентяюга какой-нибудь. Имей в виду. — Он шарит в кармане гимнастерки, достает письмо от Лизки, читает, довольно внятно бормоча. — Вот, люблю, сообщает, верная до гробовой доски, воздушных поцелуев два миллиона шлет…
Где-то вдали и сбоку возникает рокот, быстро усиливается, превращается в гром — мелко вздрагивает наша Безымянная, — и я вижу в сумерках неба три силуэта «яков». Гром мгновенно спадает, превращается в рокот, затем в отдаленное шелестение. Силуэты исчезают в стороне Хабаровска.
— Действуй, — говорит Серый, прячась в шинель.
Щелкаю переключателем, зову КП, сообщаю цифровым кодом: «На северо-запад проследовало звено истребителей. Полет бреющий, скорость предельная». Получаю подтверждение, снимаю наушники, лезу в шинель.
Идут учения. Большие, маленькие, штабные, гарнизонные— мне неизвестно. Зачем — тоже не знаю. Долго ли будут — можно только гадать. Сиди, жди команды. Сухого пайка на трое суток. Не будет отбоя — сутки еще на ничем продержимся (экономь еду!). Учения — почти настоящая война. Война в мирное время.
Трудно, конечно, поверить в серьезность этой войны, потому что после той, настоящей, долгой и страшной войны прошел всего год. И хоть я не попал на фронт, не успел попасть, все равно знаю, какой была та война. Я будто бы и сам изранен ею, дня не могу прожить, чтобы не подумать о ней, не услышать про нее, не увидеть на ком-нибудь или на чем-нибудь ее памяти. А эта, теперешняя, — все-таки игра. Неловко так «воевать» после той войны, стыдно. И времени жалко: жизнь-то еще не начата, в ней придется устраиваться (не всем же дом с мезонином приготовлен, как Зыбину-Серому!), а тут вот сиди, зябни и наблюдай за своими самолетами. Может быть, надо призвать молодых солдатиков вместо нас, «старичков»: мы поустали, непригодны для игры. Нас готовили для настоящего дела.